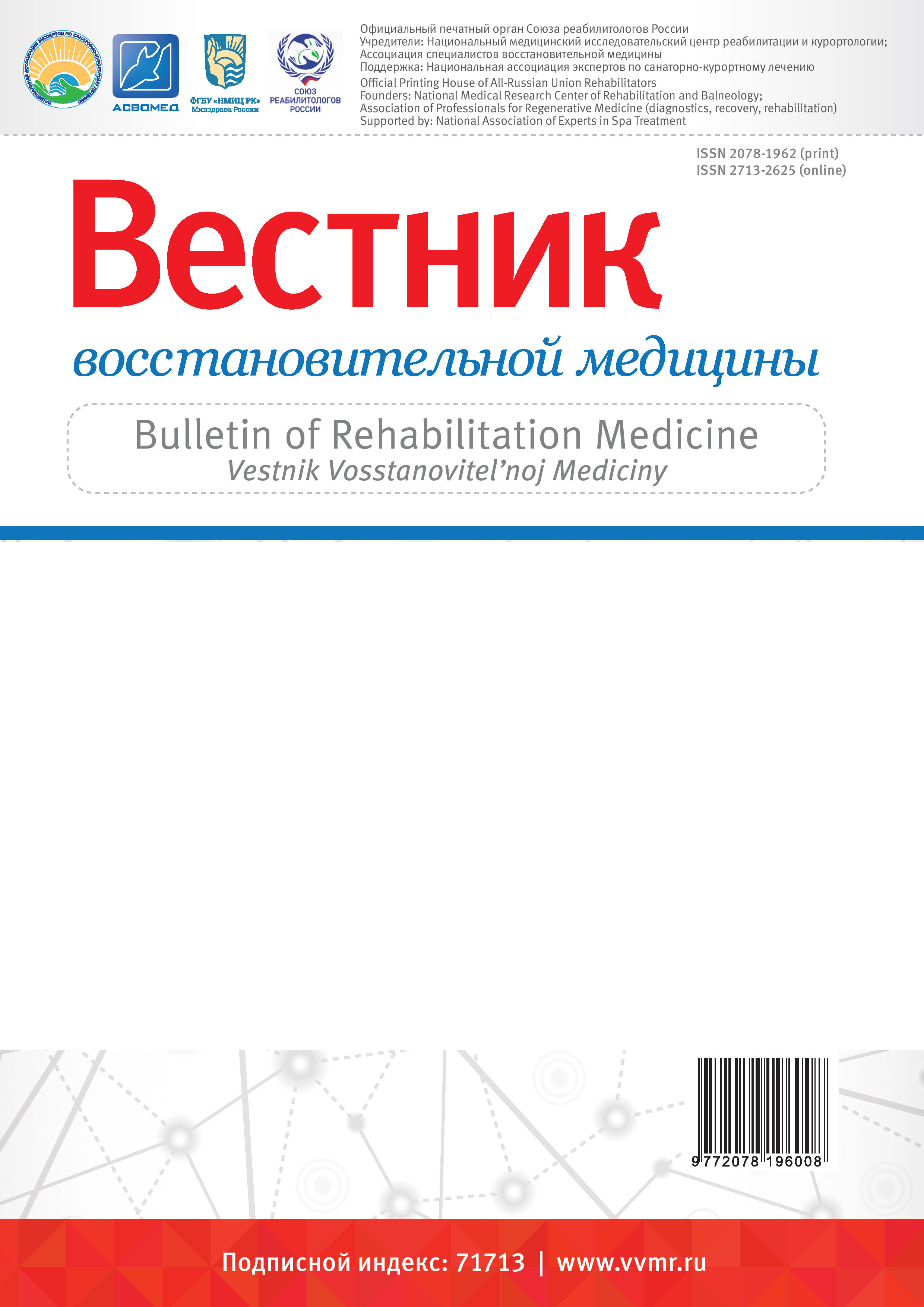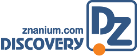Текст (PDF):
Читать
Скачать
Недостаточность макро- и микроэлементов и витаминов в организме как матери, так и ребенка, возникающая нередко первично (нарушение их поступления), или вторично (изменения усвоения их всасывания), не вызывает сомнения является актуальным вопросом в медицинской практике. На данный момент многие педиатры и акушеры особый интерес уделяют вопросам минерального обмена, костного обмена и остеопении новорожденных, и состояния их здоровья [1-3]. Среди этиологических факторов, предрасполагающих к рахиту недоношенных, следует назвать следующие: 1. низкий гестационный возраст (ГВ) - обычно < 31 недели; 2. внутриутробная гипотрофия или задержка внутриутробного развития (ЗВУР); 3. низкая масса тела при рождении (< 1500 г); 4. перенесенная гипоксия/асфиксия; 5. эндогенный дефицит минеральных веществ при рождении; 6. недостаточное поступление витамина D при оральном/энтеральном/парентеральном питании; 7. экзогенный дефицит Са, РО4, Mg и Cu, поступающих в организм алиментарным путем; 8. незрелость Са-регулирующих систем и т.д. К 28-му дню болезни среди младенцев с массой тела при рождении < 1000 г. распространенность рахита недоношенных достигает 56%, а впоследствии приближается к 100% [4]. На данном этапе наблюдается огромный прогресс в разработке биохимических методов диагностики метаболических нарушений костной ткани. Имеются биохимические показатели, уровень которых связан с костным метаболизмом (ПТГ, Са, метаболиты витамина D, общая щелочная фосфатаза), а также специфические биохимические показатели костного метаболизма (остеокальцин, костная щелочная фосфатаза, гидроксипролин, кальцидол). Основные маркеры костного метаболизма: 1. маркеры костеобразования: сывороточный остеокальцин, сывороточная общая и костная щелочная фосфатаза, сывороточные С-концевые пропептиды проколлагена 1-ого типа, М-концевые пропептиды проколлагена 1-го типа; 2. маркеры резорбции: тартратрезистентная кислая фосфатаза, перекрестные соединения, пиридинолин и деоксипиридинолин, тесно связанные с ними С- и N - концевые телопептиды коллагена 1-го типа (поперечные сшивки), кальцийиииггидроксипролин [3-4]. При исследовании особенностей костного метаболизма новорожденных детей чаще в практике используется сывороточный остеокальцин, который является распространённым неколлагеновым белком костного матрикса и специфичным для костной ткани и дентина. Выявлено, что у 77 % обследованных новорожденных детей этот показатель был ниже нормы. Помимо того, у обследуемых детей был снижен сывороточный кальцидол в крови. Вместе с тем известно, что дефицит витамина Д, как правило, ассоциируется со снижением кальцидола (25-ОНD). Полученные результаты, можно интерпретировать как изменения в костной ткани новорожденного ребенка в сторону снижения костной массы [4-6]. Таким образом, необходимость применения современных биохимических маркеров (определение С-концевых телопептидов коллагена I типа) костного ремоделирования позволяет оценить состояние метаболизма в костной ткани детей, влекущее за собой развитие остеопении [4]. Сегодня недостаточность витамина D обрела статусом сильной эпидемии и затрагивала большое количество населения планеты. Показатели достаточно тревожные, в России и США дефицит витамина D у женщин составляет 73,9-84,0 и 75 % соответственно, а в Японии и Южной Кореи около 90 % [5-7]. Терминология акцентирует внимание на костных аспектах болезни, таким образом, игнорируя полиорганный характер этого вида патологии, включая поражение нервной системы недоношенных младенцев [3, 16]. Лабораторными критериями остеопении являются сниженный уровень сывороточного фосфора, повышенный уровень щелочной фосфатазы, а также гиперкальциемия и гиперкальциурия, которые сопровождают недостаточное поступление фосфора. Нижней границей сывороточного фосфора у недоношенных детей чаще принимается величина 1,3 ммоль/л, хотя можно встретить показатели 1,6-1,8 ммоль/л. Щелочная фосфатаза - неспецифичный показатель, поэтому и нормальные показатели щелочной фосфатазы не исключают остеопению [4, 5]. Целенаправленно профилактику остеопении недоношенных детей надо начинать с обеспечения адекватного содержания витамина D в организме беременной. Что касается обеспечения недоношенных детей витамином D, то в настоящее время нет единого мнения в отношении необходимой дозы для профилактики и лечения. У недоношенных детей остеопения чаще развивается с бронхолегочной дисплазией, холестазом, у детей с задержкой внутриутробного развития, некротизирующим энтероколитом, вследствие плацентарной недостаточности, а также при многоплодной беременности. Плод накапливает в III триместре около 80% кальция и фосфора. Одни авторы утверждают, что кальций в III триместре накапливается со скоростью 90-150 мг/кг/сут. с максимальным поступлением (150 мг/кг/сут.) в период 36-38 недель беременности, по другим данным - со скоростью 100-130 мг/кг/сут. с максимальным накоплением между 32-й и 36-й неделей, поэтому, чем меньше срок гестации, на котором произошли роды, тем выше и чаще риск и степень последующего развития дефицита кальция и фосфора. Минерализация костей к постконцептуальному возрасту 38-40 недель остается сниженной у недоношенных детей. Сниженное поступление, прежде всего, кальция и фосфора после рождения ребенка имеет наибольшее негативное влияние на рост костей и минерализацию, в малой степени в патогенезе участвует дефицит витамина D [3, 8, 24]. Важное влияние на кальциево-фосфорный обмен и процессы формирования скелета имеет практика вскармливания недоношенных детей. Риском развития гиповитаминоза Д также является наличие сопутствующей патологии: наличие синдрома мальабсорбции и нефротического синдрома, избыточная масса тела в связи с депонированием витамина Д в подкожно-жировой клетчатке, прием некоторых лекарственных препаратов, таких как противоэпилептические препараты, рифампицин, колестирамин. Имеется незначительный объем информации о значимых различиях содержания витамина Д в сыворотке крови у детей с различными генотипами, с нарушениями обмена витамина Д [3-6]. В естественных условиях витамин D (холекальциферол) продуцируется в кожных покровах под воздействием солнечных лучей. С пищей его можно получить из молочных, морских, и других продуктов питания. Витамин D в печени трансформируется в кальцифедиол (25(ОН)D), а в почках превращается в кальцитриол (1,25 дигидроксивитамин D). Витамин D и его активные формы играют ряд важных функций - костных (управления метаболизма костно-мышечной системы), и внекостных (регуляции иммунного процесса, воспалительного ответа, регенерации и др.). Нормальный уровень витамина D существенно снижает и структуру заболеваемости, и общую смертность [8-10]. Актуальность проблемы, связанной с дефицитом в организме матери и ребенка тех или иных витаминов, макро- и микроэлементов, возникающих чаще всего при нарушении их поступления, усвоения или из-за избыточных потерь, не вызывает сомнения [3]. Неблагоприятные факторы, которые воздействуют на беременную, могут приводить к нарушению развития плода, способствовать нарушению формирования костного скелета и минерализации костей еще во внутриутробном периоде. Делая акцент на недостаточность минерализации костной ткани уже в периоде новорожденности, можно сказать, что она может способствовать нарушению нормального развития и формирования скелета, препятствовать достижению оптимальной, генетически предопределенной пиковой массы и плотности костей в более позднем периоде детства [3-5]. Дефицит витамина D является причиной нарушения фосфорно-кальциевого обмена и развития ряда патологий остеопатий, рахита, гиперпаратиреоза, поликистозных яичников, онкологических заболеваний и др. [11-13]. Цель. Изучить показатели костного метаболизма у недоношенных детей, рожденных естественным путем, и детей, рожденных с помощью ЭКО. Материал и методы Проведено исследование недоношенных детей, на базе ГБУЗ «Республиканская детская клиническая больница» (г. Уфа). Результаты обработаны и анализированы на базе кафедры педиатрия с курсом ИДПО «Башкирский государственный медицинский университет». Изучаемые дети рандомизированы на 4 группы в зависимости от способа рождения и веса: 1-я - дети, рожденные при помощи ЭКО, с очень малым весом (n=52); вторая группа (n=49) - аналогично первой, но дети с экстремально малой массой; третья (n=46) - дети с очень малым весом, рожденные естественным способом; четвертая (n=42) - похожа на 3-ю, но с экстремально малой массой. Для сравнения изучаемых показателей с референсным уровнем исследованы 15 доношенных детей с нормальным весом. Критерии включения: недоношенные дети, рожденные естественным путем и при помощи ЭКО, согласие родителей на участие в исследовании, соблюдение инструкции врача, отсутствие патологий, удовлетворительное состояние, срок гестации 24-34 недели, возраст - 3-36 месяцев. Критерии невключения: собственный отказ родителей, наличие заболеваний (инфекционных, соматических, аномальных и др.), доношенные дети, дети с нормальным весом, период гестозы меньше 24 и более 34 недели, возраст - старше 36 месяцев. Исследуемое состояние костного метаболизма недоношенных новорожденных на протяжении года жизни ребенка. Всем исследуемым новорожденным выполнена оценка минерального обмена после года от рождения с целью изучения обеспеченности кальцидиолом (25(ОН)D), паратгормоном, кальция, кальцитонином и С-концевыми тепопептидами в плазме крови при помощи набора реагентов на иммуноферментном анализаторе Bio-Plex® 200 (США). Срок исследования: к году жизни. Статистическая обработка полученных результатов проведена при помощи программы «Statistica 6.0». при значениях p<0,05. Результаты и обсуждения Витамин D играет важную роль в регулировании минерального баланса между фосфором и кальцием в организме ребенка, по этой причине его потребность у детей высока. При этом дефицит витамина D сопровождается нарушением соотношения кальция и фосфора, что приводит к развитию ряда патологий у малышей [14-16]. Наши исследования показали, что у недоношенных детей уровень витамина D к концу года в среднем превышал группу нормы на 18,6 % (p>0,05). При проведении сравнительного анализа недоношенных детей с низким весом в зависимости от способа рождения установлено, что содержание витамина D в сыворотке детей 3-й группы было ниже 1-й на 16,5 % (p<0,05) и у детей 2-й группы относительно 4-й на 24,9 % (p<0,05) (рис. 1). Рис. 1. Уровень витамина D к году жизни недоношенных детей Fig. 1. The level of vitamin D by the year of life of premature babies Известно, что механизм, поддерживающий стабильный уровень кальция плазмы крови, складывается лишь к концу 1-го месяца жизни - в нормальных условиях, а у недоношенных формируется еще позднее. Это создает у последних определенные сложности в совершенствовании фосфатно-кальциевого гомеостаза. Следует также отметить, что это также и касается доношенных детей с массой менее 2500 г., более того, имеется особая группа новорожденных, имеющих гетерохронию формирования отдельных систем. Практический интерес представляют дети, рожденные с низкой и экстремально низкой массой тела, у которых проблема остеопении является острой [17-19]. При изучении уровня кальция у недоношенных детей установлено, что показатель уровня кальция в исследуемых группах недоношенных детей был в пределах возрастной нормы (2,15-2,55 ммоль/л). Содержание кальция в плазме крови в группах (1-ой, 3-ей) недоношенных детей с очень низким весом было близко к норме. У детей с экстремально низкой массой уровень кальция сыворотки был понижен при сравнению с исходной группой: у детей 2-ой группы - на 19,1 % (p<0,05), и у 4-ой - на 14,6 % (p<0,05). При сравнении содержания кальция в зависимости от веса выявлено отсутствие отличие между 1-й и 3-й группами и 2-й и 4-й группами (рис. 2). Рис. 2. Уровень содержания кальция у групп недоношенных детей Fig. 2. The level of calcium content in groups of premature infants При этом результаты сопоставлению групп по способу рождения показали значимые различия. Уровень кальция в третьей группе значимо превышал вторую на 14,2 % (p<0,05). В первой группе концентрация кальция значимо превосходила 2-ю и 4-ю группы на 18,2 и 12,6 % (p<0,05) соответственно. Фосфатно-кальциевый баланс у детей регулируется многими факторами. Нейроэндокринный контроль является непременным условием в управлении фосфатно-кальциевого гомеостаза, осуществляемое рядом гормонов, в основном, кальцитонином и паратгормоном. Под их непосредственным воздействием происходит транспорт минералов в кишечнике и почек для оптимизации их функций, поэтому нарушение продукции и регуляции паратгормона и кальцитонина сопровождается развитием остеопений [20-23]. При исследовании уровня паратгормона у недоношенных детей выявлено, что его содержание было в пределах референсного значения (15-65 пг/мл) (рис. 3). Рис. 3. Уровень содержания паратгормона у групп недоношенных детей Fig. 3. The level of parathyroid hormone in the groups of premature infants При сравнении содержания паратгормона у недоношенных детей в ассоциации с весом не наблюдалось достоверное отличие между первой и третьей (p>0,60), второй и четвертой (p>0,68) (рис. 3). У детей 4-й группы (с экстремально низким весом при естественном способе рождения) содержание паратгормона значимо превосходил 3-ю (на 22,7 %, p<0,05). В тоже время, количество паратгормона в плазме крови 2-й группы было повышено относительно первой группы на 28,3 % (p<0,05) (рис. 3). Рис. 4. Уровень содержания кальцитонина у групп недоношенных детей Fig. 4. The level of calcitonin in the groups of premature infants Показатель уровня кальцитонина в исследуемых группах недоношенных детей был в пределах возрастной нормы (до 45 пг/мл) (рис. 4). Сывороточное содержания кальцитонина в группах недоношенных детей слабо отличалось в зависимости от веса детей: уровень кальцитонина в первой и третьей группах не отличался (p>0,58), а также между второй и четвертой группами (p>0,88). Содержание кальцитонина у групп недоношенных детей значимо, но слабо различался - η²=5%, F=3,7, p<0,02. На рисунке 4 видно, что в группах детей, рожденных с ОНМТ и детей с ОНМТ (ЭКО) показатели достаточно близки и значимо не различались (3,74 ± 0,84 и 3,83 ± 0,84 пг/мл, p>0,58). То же самое имеет место и в группах детей, рожденных с ЭНМТ и детей с ЭНМТ (ЭКО) (3,37 ± 0,97 пг/мл и 3,35 ± 0,95 пг/мл, p>0,89). При этом в обеих группах (3-й и 1-й) детей рожденных с очень низкой массой тела уровень кальцитонина значимо превышал обои группы (4-ю и 2-ю) детей рожденных с экстремально низкой массой (на 21,7 и 24,1 %, p<0,05). Рис. 5. Уровень содержания С-концевых тепопептидов у групп недоношенных детей Fig. 5. The level of C-terminal tepopeptides in the groups of premature infants Органическая матрица костей в основном состоит из коллагена I типа, синтезируемого молодыми клетками (остеобластами), регулирует прочность материала костной ткани. В состав коллагена I типа входят 3 аминокислотных цепочек, связанных в форме палочковидной спирали. Коллаген I типа имеет N-(амино) и С-(карбокси-) фрагменты. Коллаген I типа при разрушении костного материала под действием протеолиза отщепляется в молекулярные продукты, в частности С-телопептид. При этом С-терминальный пептид содержит альфа-форму аспартата, которая трансформируется в бета-форму. Последняя при деформации костной ткани поступает в кровь и служит показателем деградации коллагена I типа [24, 25]. При изучении С-концевых телопептидов коллагена I типа установлено, что его концентрация в крови была ниже группы нормы на 18,3 % (p<0,05). Уровень содержания С-концевых телопептидов коллагена I типа по группам недоношенных детей значимо, но относительно слабо различается - η²=10%, F=6.7, p<0.0003. Как видно на рисунке 5, в группе детей, рожденных с ЭНМТ (ЭКО), уровень С - концевых телопептидов коллагена I типа значимо (p<0,007 ÷ <0,0003) ниже, чем в трех остальных - 0,73 ± 0,07 нг/мл против 0,77± 0,04 нг/мл в группе детей с ОНМТ, рожденных естественным путем, против 0,79 ± 0,07 нг/мл в группе недоношенных детей с ОНМТ ( ЭКО) и соответственно 0,79 ± 0,08 нг/мл в группе ЭНМТ. При этом различия в этих трех группах статистически незначимы (p>0,29 ÷ >0,92), но сам показатель был ниже возрастной нормы (0,9-4,0 нг/моль), что свидетельствует у недоношенных детей о резком замедлении процессов роста костной ткани и костного ремоделирования. Как видно из рисунка 5, во 2-ой группе уровень С-концевых телопептидов коллагена I типа был значимо ниже остальных групп - 1-ой, 3-ей и 4-ой на 21,1, 17,6 и 23,8 % (p<0,05) соответственно. Заключение У недоношенных детей, рожденных разными способами отмечается дефецит витамина D у 8 %, недостаточность - у 67,7 %, и нормальное содержание у - 27,5 %. У детей в раннем возрасте наблюдается нарушение костного метаболизма (повышение уровня кальция, паратгормона, кальцитонина, с одной стороны и снижение С-концевых телопептидов коллагена I типа - с другой). Данные изменения были ассоциированы с весом детей, при этом, агрессивные расстройства были отмечены у детей с экстремально низким весом. Поэтому только показатели фосфорно-кальциевого обмена у большинства недоношенных детей находились в пределах референсных значений, и не могут быть использованы с целью косвенной оценки статуса витамина D. У недоношенных детей (с массой тела меньше 1500 г) следует рекомендовать мониторинг уровня витамина D в крови и С-концевых телопептидов коллагена 1 типа. Костное моделирование имеет большое преимущество за счет анализа уровней содержания биомаркеров в сыворотке крови недоношенных детей оно дает возможность установить особенности остеогенеза. Выявленные закономерности остеогенеза на фоне низкого содержания витамина Д на первом году жизни у недоношенных детей позволяет отнести их к группе высокого риска развития остеопении.